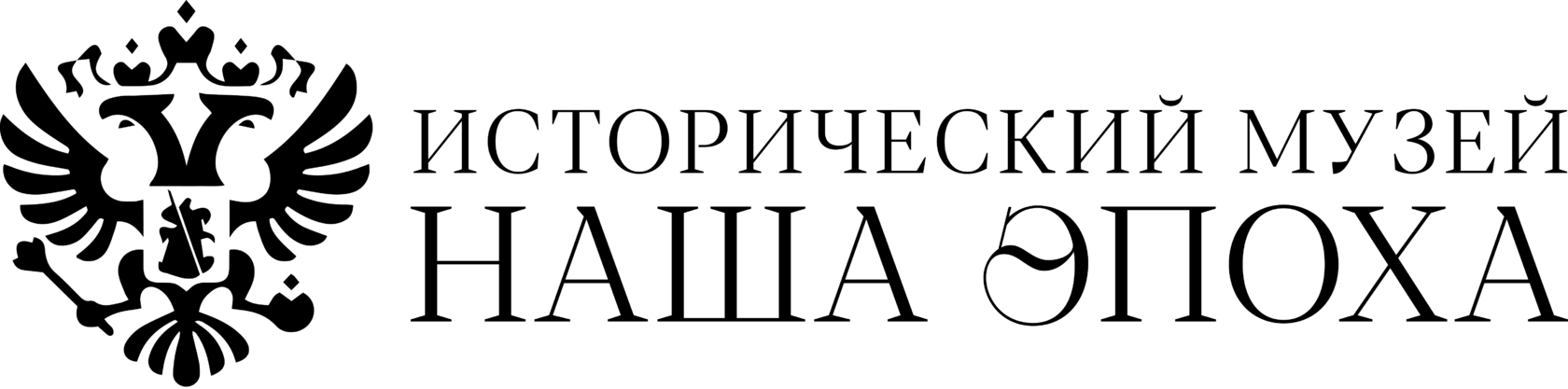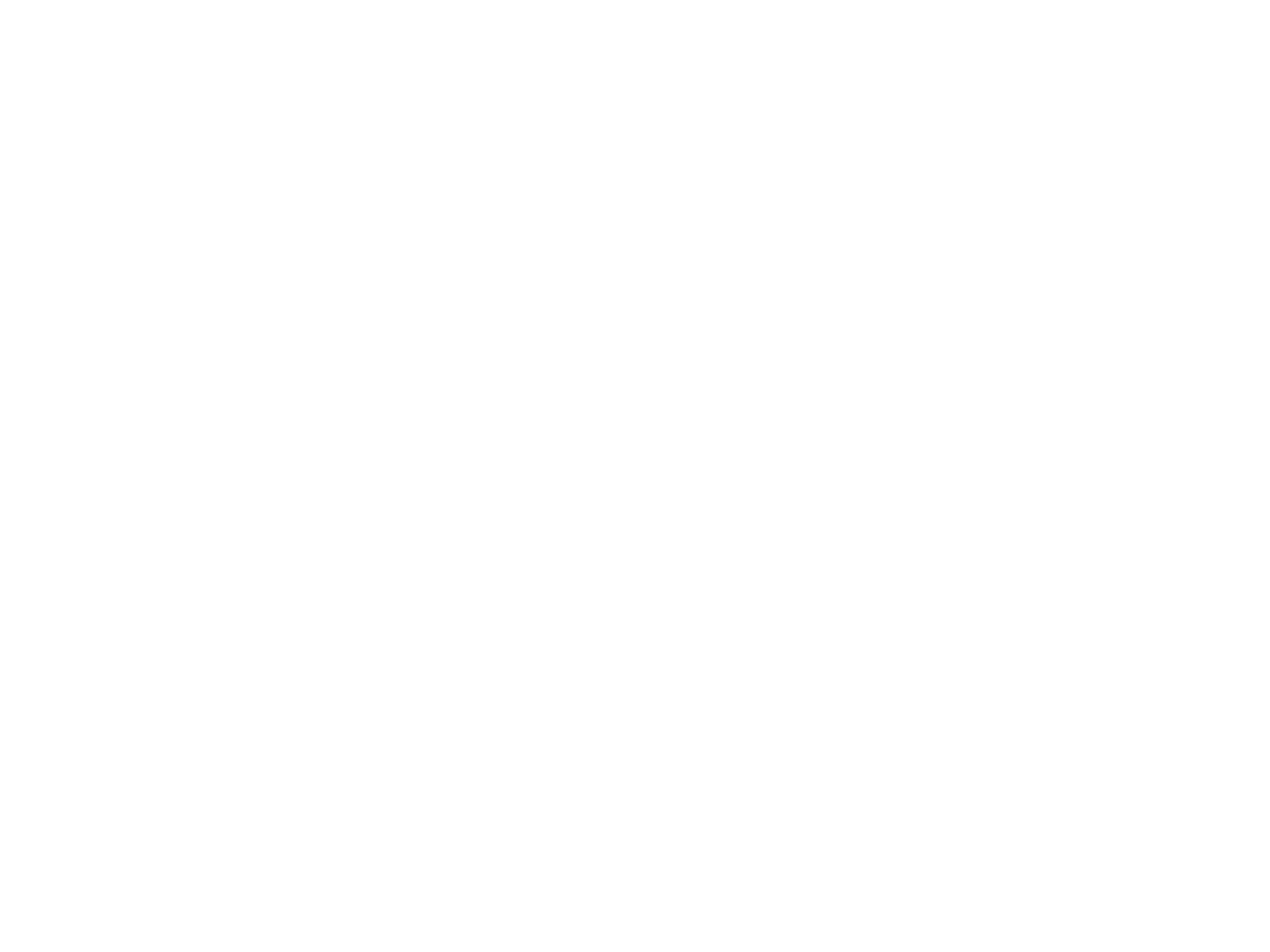
Заказ экскурсии
Вы можете оформить заявку на посещение музея или заказ экскурсии по телефону
8 (499) 245-21-85
Последняя экскурсия начинается не позднее 16:00
Посещение нашего музея происходит в свободном режиме
8 (499) 245-21-85
Последняя экскурсия начинается не позднее 16:00
Посещение нашего музея происходит в свободном режиме
Московский музей «Наша Эпоха» повествует о Русской истории через ее Богоизбранных Царей. Взгляд на наше прошлое, настоящее и будущее через призму Русского Царства.
Перед музеем стоит цель - донести до наших современников историческую правду о Царствовании в России Державных правителей из Рюрикова Рода и Дома Романовых, в особенности, о правлении Царя-Мученика Николая Александровича, а также о подвиге Святого Семейства последнего Императора Всероссийского.
Перед музеем стоит цель - донести до наших современников историческую правду о Царствовании в России Державных правителей из Рюрикова Рода и Дома Романовых, в особенности, о правлении Царя-Мученика Николая Александровича, а также о подвиге Святого Семейства последнего Императора Всероссийского.
О музее
В музее «Наша Эпоха» представлены материалы, раскрывающие тему богословия и истории Царской власти с древнейших времен до нашего времени в разных частях света.
Редкое качество одного из самых молодых музеев Москвы и России — экспонаты собраны и размещены в экспозиции одним человеком. Основную часть коллекции собирал в течение 50 лет протоиерей Василий Фонченков, профессор Иоанно-Богословского университета. Интерес к Царской Семье зародился у В.В. Фонченкова рано. По его словам, в 1959 г. ему дано было понимание значения для России Дома Романовых, Его стояния за Россию перед Богом. С тех пор и началась осмысленная собирательская деятельность о. Василия. Вера в святость Государя, по его словам, укрепилась у него после того, как за год до смерти в 1966 г. его отец, убежденный коммунист и атеист, по усиленным молитвам сына Царю-Мученику, искренне обратился к Богу, дважды исповедавшись и причастившись.
Экспозиция
В экспозиции представлены материалы по истории царствования Державного Дома Романовых, основная часть музейной коллекции посвящена Святому Страстотерпцу Царю-Мученику Николаю и членам его семьи.
Зал 1
История России от царя Михаила Романова до Императора Александра Ш
Родословная таблица Домов Рюрика и Романовых, уникальные книги и монеты, портреты представителей Державного Дома Романовых, Указ с личной подписью Императора Александра III, подлинное «Евангелие» Иоанна Кронштадтского.
Зал 2
Период правления Императора Николая II
Уникальные Коронационные книги, подлинные фотографии из архива Царской Семьи, икона Божией Матери «Феодоровской» из покоев Императрицы, медали, ордена, монеты, фарфоровые изделия и предметы быта конца XIX - начала XX веков.
Зал 3
Старец Распутин и Святая Елизавета Федоровна
Уникальное «Дело Тобольской духовной консистории» и личные вещи Великой княгини Елизаветы Федоровны.
Зал 4
Арест, ссылка и расстрел Царской Семьи
Уникальные материалы по личности Григория Ефимовича Распутина, фотографии и воспоминания об аресте и ссылке Царской Семьи, книга следователя Н.Соколова «Убийство Царской Семьи».
Зал 5
Канонизация Царской Семьи
Четыре конфессии признали Святыми членов семьи Николая II. Представлены древние и современные иконы.
Зал 6
Деструктивные силы
Материалы по деятельности масонов и личные вещи семьи князя Юсупова Ф.Ф.
Зал 7
Великая Французская революция и российские Великие князья
Личные вещи казненной Марии-Антуанетты, а также история Российских Великих князей и их наставников.
Зал памяти основателя музея – протоиерея Фонченкова В.В.
Василий Фонченков являлся активным участником общественной жизни верующих, был задействован в различны эклезиологических и социальных проектах, направленных на укрепление православной идентичности в обществе. Возвращение к традициям и вспоминание новомучеников стало для него важной миссией, отражая его глубокую приверженность к вере и церкви.
Василий Фонченков являлся активным участником общественной жизни верующих, был задействован в различны эклезиологических и социальных проектах, направленных на укрепление православной идентичности в обществе. Возвращение к традициям и вспоминание новомучеников стало для него важной миссией, отражая его глубокую приверженность к вере и церкви.
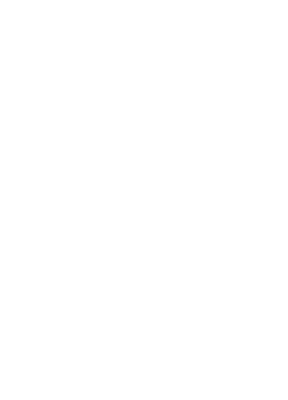
Музей «Наша Эпоха» продолжает завещанную о. Василием собирательскую деятельность: приобретение предметов и книг, связанных с темой Русского Царства. Здесь будут с благодарностью приняты доброхотные дары чтителей Царственных мучеников. И, конечно, тут всегда рады принять вас!
Контакты
Олсуфьевский пер., дом 6, стр.2, Москва
тел: 8 (499) 245-21-85
e-mail: nashaepoha@yandex.ru
Ср.–Вс. — 10:00–17:00
Пн.–Вт. — Выходной
тел: 8 (499) 245-21-85
e-mail: nashaepoha@yandex.ru
Ср.–Вс. — 10:00–17:00
Пн.–Вт. — Выходной